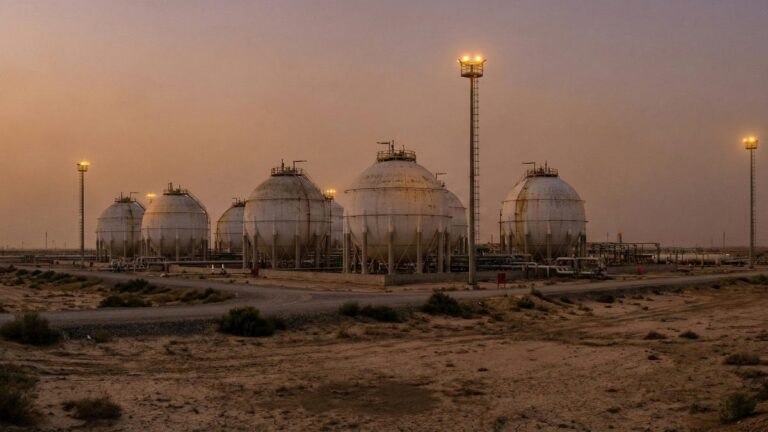Восточная Австралия стоит на пороге потенциального дефицита газа к 2030 году, что вызывает обеспокоенность и активно обсуждается в последние недели. На фоне этих прогнозов звучат предупреждения от представителей газовой отрасли о том, что дальнейшее государственное вмешательство в рынок может только усугубить ситуацию. Ключевой темой дискуссий становится вопрос о необходимости введения механизма резервирования газа для внутреннего рынка.
Для решения надвигающейся проблемы нехватки газа рассматриваются четыре основных пути: увеличение внутренней добычи, сокращение внутреннего спроса, импорт сжиженного природного газа (СПГ) и перенаправление части экспортных объемов СПГ на внутренний рынок, то есть введение системы резервирования.
Ассоциация производителей энергии Австралии (Australian Energy Producers, AEP) настаивает на том, что правительствам и регуляторам следует сотрудничать с отраслью для устранения барьеров, мешающих разработке новых месторождений и инвестициям, чтобы избежать дефицита. Однако опыт показывает, что рост добычи не всегда гарантирует достаточное предложение газа внутри страны. С 2014-2015 финансового года добыча газа на восточном побережье удвоилась, но внутреннее потребление упало на 25%. Это произошло из-за троекратного роста цен на газ и того факта, что экспортеры СПГ из Квинсленда активно направляли добываемый газ на внешние рынки.
Возможности федерального правительства для быстрого стимулирования новой добычи ограничены. Существует лишь несколько потенциальных проектов в прибрежных водах восточного побережья, находящихся в ведении федерального правительства, но разработчики этих проектов не указывают на регуляторные барьеры как на основное препятствие. К тому же, запуск новых газовых проектов обычно занимает от 2 до 5 лет, что может оказаться слишком долгим сроком для предотвращения дефицита. Существует также риск, что фактическая добыча на новых месторождениях окажется ниже ожидаемой.
Исследования Института экономики энергетики и финансового анализа (IEEFA) показывают значительный потенциал для снижения спроса на газ за счет мер энергоэффективности и электрификации как в домохозяйствах, так и в некоторых отраслях промышленности. Это позволило бы снизить счета за энергию, защитить потребителей от высоких цен на газ и существенно уменьшить, хотя и не устранить полностью, риск дефицита.
Существуют также проекты строительства терминалов для импорта СПГ в Восточной Австралии. В краткосрочной перспективе это реальный способ увеличить предложение, но импортный газ, вероятно, будет стоить дороже добытого внутри страны, по крайней мере, в текущих рыночных условиях. Это связано со значительными затратами на сжижение, транспортировку и последующую регазификацию.
В то же время, по данным IEEFA, значительные объемы газа, предназначенные для экспорта на спотовом рынке СПГ и не связанные долгосрочными контрактами, могут быть перенаправлены на внутренний рынок с относительно небольшими финансовыми последствиями для производителей СПГ. Таким образом, предотвращение дефицита газа без дальнейшего роста цен, скорее всего, потребует той или иной формы резервирования.
Дискуссии о резервировании газа на восточном побережье ведутся не первый год, но недавние призывы к его введению связаны с влиянием высоких цен на газ на общую стоимость жизни. Цены на газ напрямую влияют на счета домохозяйств за энергию, как за сам газ, так и за электричество, поскольку газ часто определяет цену на электроэнергию. Высокие цены на газ также привели к закрытию промышленных предприятий в последние годы. Крупные промышленные потребители, профсоюзы и отраслевые группы утверждают, что снижение стоимости газа позволит их предприятиям оставаться конкурентоспособными и сохранить рабочие места в производственном секторе Австралии.
Одной из ключевых причин роста цен на газ в последние годы стала их привязка к международным ценам, что отражает влияние цен на СПГ на внутренний рынок. Сторонники резервирования утверждают, что увеличение предложения газа на внутреннем рынке разорвет эту связь с высокими международными ценами и приведет к снижению внутренних цен, как это произошло в Западной Австралии.
Противники резервирования, напротив, заявляют, что любое дальнейшее вмешательство государства на восточном побережье отпугнет инвестиции и усугубит проблемы с поставками в долгосрочной перспективе. AEP, комментируя моделирование последствий резервирования, проведенное Frontier Economics, отметила, что политика, снижающая внутренние цены на газ до уровня 10 австралийских долларов за гигаджоуль, может привести к отмене или задержке поставок до 700 петаджоулей газа в течение следующих восьми лет. Хотя немногие отрасли приветствуют государственное регулирование, аргумент AEP о рисках для инвестиций имеет под собой основания.
Перед федеральным правительством стоит сложная задача: как обеспечить достаточные поставки газа на внутренний рынок достаточно быстро, чтобы предотвратить возможный дефицит, но при этом не подорвать стимулы для инвестиций?
К счастью для правительства, существуют различные способы реализации политики резервирования, некоторые из которых могут оказать меньшее влияние на инвестиционную привлекательность. Подход, используемый в Западной Австралии, где экспортеры СПГ обычно обязаны поставлять 15% своих запасов газа на внутренний рынок (с некоторыми исключениями), явно не подходит для восточного побережья. Например, проект Gladstone LNG (GLNG) компании Santos не производит достаточно газа даже для выполнения собственных экспортных обязательств и зависит от газа, привлекаемого с внутреннего рынка. Требование поставлять 15% на внутренний рынок, вероятно, вынудило бы GLNG нарушить экспортные контракты, что усилило бы восприятие инвесторами суверенных рисков.
Более подходящим вариантом для разрыва связи между внутренними и международными ценами и стимулирования поставок на внутренний рынок может стать экспортный налог на СПГ, продаваемый сверх объемов, необходимых для выполнения долгосрочных контрактов. Это могло бы оказать относительно минимальное влияние на инвестиционные стимулы, поскольку внутренние цены могли бы оставаться на уровне, покрывающем долгосрочные затраты на новые поставки газа. По сути, это вариант, смоделированный Frontier Economics, за исключением того, что их подход также предполагал установление целевой цены на внутреннем рынке, что создает очевидные проблемы. Помимо влияния на инвестиции, определить объем поставок, необходимый для достижения цены в 10 австралийских долларов за гигаджоуль, будет сложно, и неясно, как это можно было бы сделать.
Еще одним механизмом, который может рассмотреть правительство, является система экспортных лицензий. В рамках этой системы экспортеры СПГ получали бы лицензию на экспорт сверх объемов по долгосрочным контрактам в обмен на поставку определенного объема газа на внутренний рынок. Это сохранило бы стимулы для инвестиций, при условии относительно высоких международных цен, но потребовало бы от правительства определения объемов поставок для внутреннего рынка. Этот механизм может быть менее эффективным при низких международных ценах, что вероятно в ближайшие годы из-за ожидаемого глобального переизбытка СПГ.
Более радикальным вариантом был бы полный запрет на продажу СПГ без долгосрочных контрактов. Это навсегда разорвало бы связь между внутренними и международными ценами и вынудило бы поставлять весь газ, не законтрактованный на долгий срок, на внутренний рынок. Однако этот вариант также существенно подорвал бы стимулы для инвестиций, что могло бы привести к снижению добычи газа и ухудшению прогноза поставок. Это также могло бы нанести ущерб репутации Австралии как надежного торгового партнера.
Учитывая риск дефицита газа и его влияние на стоимость жизни, очевидно, что федеральному правительству необходимо предпринять дополнительные шаги для приоритизации внутренних потребителей газа. Хотя опасения отрасли относительно инвестиционных рисков обоснованны, существуют варианты, в частности экспортный налог, которые могли бы улучшить условия на внутреннем рынке при минимизации рисков для инвестиций.